Коваль Леон
«Говард Фаст псаломщик ревизионизма»
Большие
цитаты
Старые газеты.
Мой осторожный отец
лишь после 20 съезда показал мне, студенту-старшекурснику, сохраненную им
пожелтевшую «Правду» за 39 год с докладом Молотова. Меня (как и его в
свое время) потрясли слова Предсовнаркома СССР: «Польша - уродливое
детище версальского договора прекратила свое существование под
объединенными ударами советской и германской армий». С этого номера
стартовала моя коллекция газетных публикаций брутально советского,
антисемитского и т.п. свойства, оставленная, к сожалению, на
доисторической. В ней была и «Литературка» 57 года со статьей
литературного фюрера Николая Грибачева, название которой использовано
здесь в качестве заголовка. Гавкать (или науськивать) Грибачев умел
хлестко и оскорбительно. От него я впервые услышал: «Хватит
спекулировать на Катастрофе!». (Понятно, что слово «катастрофа» не было
употреблено, вместо него использовался какой-то забытый уже эвфемизм). Грибачев
в своей обширной статье вытер ноги об американского писателя Говарда
Фаста после его заявления о выходе из компартии. Грибачев объяснял
свои действия требованиями гигиены, необходимостью придавить навозную
муху, которая надоедливо жужжит и бьется об оконное стекло; Фаст еврей
(уточнялось иудейская вера его предков); при Сталине американец вымогал
у СССР огромные гонорары за свои сочинения, а вот теперь, когда партия
осудила культ личности и восстановила ленинские нормы, ну и т.д.
(В 53 году Грибачев вовсю
порезвился на тему «отравителей в белых халатах». Протоирей Мих. Ардов
вспоминает («Новый Мир», 1994, №4), как он с отцом и Анной Ахматовой
читали его опус: «Страница
так и стоит у меня перед глазами: Николай Грибачев. «Ощипанный Джойнт». Я помню
даже первую фразу: «Плач стоит на реках Вавилонских, главная из которых -
Гудзон». Это «памфлет» о «деле врачей-убийц»»).
В послевоенные годы Говард Фаст,
родившийся в семье выходцев с Украины, «был назначен в СССР на
должность главного американского писателя современности»(Н. Анастасьев).
Писать и публиковаться начал рано, в конце войны вступил в компартию,
после войны был одной из центральных фигур коммунистического «Движения
за мир». За отказ свидетельствовать перед комиссией Конгресса приговорен
был к 3 месяцам тюрьмы. Между судом и отбыванием заключения добился
заграничного паспорта, участвовал в европейских конгрессах «Движения»,
поливал всячески политику США и принимался аудиторией как великомученик.
В СССР увидели свет такие произведения Фаста, как «Последняя
граница»(1942), «Дорога свободы»(1944), а также «Спартак»(1951). Отрывки из
последней книги в СССР печатал «Огонек» уже, кажется, во время
перестройки. Впрочем знаменитое кино по ней с Дугласом в главной роли
нам все-таки показали еще при Брежневе. В 1990 году Фаст написал
биографическую книжку «Быть красным». В этой книге интересны приводимые
факты, их деформации и трактовки. У еврейской левой имеются общие
органические черты, которые легко проследить со времени «Движения за
мир» и до нынешнего «Лагеря мира» в Израиле. Ее представители
удивительно изворотливы и никогда не признают собственных ошибок. В
Израиле известен журналист-арабист Эуд Яари из «Лагеря мира». Во время
одного из телеинтервью ему сказали: «Признайте, наконец, что соглашения
Осло были ошибкой». Яари: «Да, это был неверный шаг. Но! В правильном
направлении». Так-то вот ...
И Фаст через 35 лет после
своего выхода из компартии, уже наблюдая крушение коммунистической
империи, без тени сомнения считает правильными и моральными убеждения
и действия свои и прочих американских коммунистов-интеллектуалов, в
основном евреев, - после окончания Второй мировой войны. Более того, он
утверждает: Мы были лучшими
людьми в Америке.
В боевых порядках
американских коммунистов осуществлялось «разделение труда», были различные
эшелоны, в том числе такие, которые боролись за социальную
справедливость и гражданские права в своей стране. Для Сталина же
компартия США была инструментом подрывной работы
и шпионажа. А Фаст до последних
дней придерживается двойных стандартов, уравнивая масштабы
недемократических акций США и СССР. Для него сенаторы, предавшие его
суду за неуважение к Конгрессу, являются большим злом, чем Сталин.
Именно к первым он, подобно Грибачеву, применяет разные зоологические
эпитеты. Парламентарии от американской глубинки, которых высокомерно
высмеивает Фаст, как раз вызывают уважение за приверженность демократии
и желание ее защитить отнюдь не методами гестапо и КГБ.
Русские литературные журналы.
Считанные журналы в
Советском Союзе в т.н. застойные времена составляли пространство
порядочности, легкой оппозиции и высокого литературного качества. Каким
удовольствием было вытащить из почтового ящика очередной «Новый мир» в
голубоватой бумажной обложке! И сразу, отложив все дела, погрузиться в
освоение вкусного материала. А потом приступить к сладостной
редакторской забаве отбору самого-самого по собственному усмотрению. Эти
тексты извлекались и переплетались в твердые обложки. Получались
антологии собственноручного составления. В горбачевские времена
большинство не очень уважаемых прежде журналов поменяли редакторов и
примкнули к демократам. Круг источников домашних антологий увеличился.
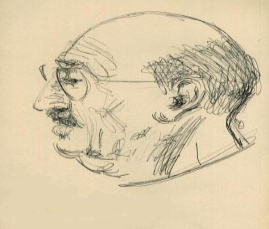 Книжники
народа Книги - любители русской словесности - перебрались на историческую
родину и добрый десяток лет были лишены привычных московских и
ленинградских журналов и возможности составлять домашние антологии. Но
разразилось чудо Интернета. Нам теперь доступны основные литературные
журналы русской метрополии, мы снова можем составлять сборники
самого-самого, хотя и в цифровом виде. Правда, читать с экрана лежа на
диване трудновато, нельзя страничку загнуть и все такое. Зато нет
проблем с лимитированной подпиской, журналы в русском журнальном сайте (russ.ru)
в ассортименте, копируй и читай не хочу.
Книжники
народа Книги - любители русской словесности - перебрались на историческую
родину и добрый десяток лет были лишены привычных московских и
ленинградских журналов и возможности составлять домашние антологии. Но
разразилось чудо Интернета. Нам теперь доступны основные литературные
журналы русской метрополии, мы снова можем составлять сборники
самого-самого, хотя и в цифровом виде. Правда, читать с экрана лежа на
диване трудновато, нельзя страничку загнуть и все такое. Зато нет
проблем с лимитированной подпиской, журналы в русском журнальном сайте (russ.ru)
в ассортименте, копируй и читай не хочу.
В журнале «Дружба народов», 2001,
№10-11 опубликованы в переводе Н. Анастасьева обширные извлечения из
книги «Быть красным». Теперь у читателя есть выбор: или сразу уйти в
журнальный сайт, или сначала все-таки узнать, что впечатлило меня в
книжке Фаста.
В 2001 же году Н. Анастасьев
посетил Фаста в его доме. Облик писателя описывается с определениями «бодрый,
энергичный, стремительный» (это в 87-то лет). Да и карандашное
изображение Фаста (худ. Л. Дюльфан) во время этой встречи подтверждает
законность таких молодых эпитетов.
Далее идут девять
избранных историй из книги Фаста, которые я позволил себе озаглавить.
Пропуски в цитатах не помечаются, необходимые для связки добавления
даются в косых скобках, некоторые истории комментируются.
1.Партия учит.
Партия
считала, что мне нельзя расслабляться. Было принято решение направить меня на
учебу в партшколу. Мы изучали экономику, американскую и мировую историю,
философию, науку управления, происхождение классов, много говорилось о причинах,
вызвавших мировые войны. Среди преподавателей были профессора Гарварда, Йеля,
Корнелла, Массачусетского технологического института. Во главе школы стоял
старый коммунист, которого мы называли папашей Менделем, не знаю уж, было ли
это его настоящее имя. Тогда ему уже перевалило за семьдесят. Мы были
романтиками, преданы идее человеческого братства, ведать не ведая о том, что
станет впоследствии известно о Сталине и Советском Союзе.
Как-то нас, партийных
писателей и журналистов пригласил на обед румынский посол. К ресторану мягко
подъехал большой черный кадиллак. Стоял душный день, и посол предложил
поскорее зайти в ресторан, где работал кондиционер. Сэм замешкался и посмотрел
на водителя, который не выходил из лимузина. Завязался следующий содержательный
диалог. Сэм: Скажите водителю, пусть идет с нами. Посол: О водителе не
беспокойтесь. Сэм: Так он идет с нами? Посол: Это водитель. Что ему делать с
нами? Сэм: Но на улице очень душно. Почему бы ему не присоединиться к нам?
Посол: Но ведь это просто водитель. Сэм: Это рабочий. Мы - партия рабочего
класса. Как мы можем позволить себе обедать в ресторане, оставив его здесь
голодным? Посол: Я вас не понимаю. Это мой шофер. Мы с вами встретились,
чтобы поговорить. Какое он отношение имеет к этому разговору? Демократы и
борцы за равенство, мы решительно встали на сторону Сэма, и в конце концов посол
сдался, водитель сел с нами за стол. Неужели посол коммунистической страны не
должен быть хотя бы до некоторой степени демократом?
2.Америка судит.
В
Соединенных Штатах начался процесс, не менее чуждый нашей истории, нежели
истории Германии - гитлеровский национал-социализм. Трамплином стало
распоряжение президента Трумэна, согласно которому все правительственные
чиновники должны присягнуть в том, что не являются и никогда не являлись членами
компартии. Отказ расценивался как молчаливое признание своей принадлежности к
партии и, соответственно, влек за собой увольнение с работы. События ближайших
лет стали непосредственным результатом именно этого президентского распоряжения.
Пожар полыхнул по всей стране. Были увольнения, были черные списки, после чего
уже не представлялось возможным получить работу по специальности. В общем, в
стране начался и шесть лет /до/ 1952 года, продолжался самый настоящий террор.
Курьер вручил мне
повестку с предписанием явиться на заседание Комитета по антиамериканской
деятельности Конгресса, имея при себе все документы, связанные с получением и
распределением денежных средств «Объединенного антифашистского комитета
беженцев». Я ни при каких обстоятельствах не /собирался/ передавать документы в
распоряжение этого гнусного комитета. Я позвонил
Эммануилу Блоху - позднее он будет
защищать в суде Розенбергов - и Мэнни сказал: по закону мне грозит штраф или до
года тюрьмы. Впрочем, заверил он меня, никто еще не получал срока за неуважение
к Конгрессу, этого просто не бывает. Что же касается штрафа, то как бы велик он
ни был, деньги собрать можно. Сгущающуюся атмосферу террора я, конечно, ощущал,
однако же, не состоя на службе и живя на гонорары со своих книг, экономически
чувствовал себя более или менее уверенно.
Сами по себе слушания представляли
нечто вроде закрытого заседания комитета, на которое допрашиваемые приглашались
по одному. Разрешалось выходить из зала для консультации с адвокатом. Подошла
моя очередь. Я ответил на вопросы об имени и местожительстве, и дальше беседа
протекала в отчасти комическом духе. Человек все еще
довольно молодой - мне было тогда 32 года - в выражениях я не стеснялся. Я
назвал Вуда /член комитета Конгресса/ жалким, отвратительным типом, которому
наплевать не только на права человека, но и на элементарные приличия. Не
произвела на Вуда особого впечатления и моя ссылка на мнение известных юристов,
что презрительное обращение к людям, ему подобным, не может рассматриваться как
неуважение к Конгрессу, таковым считается только отказ отвечать на вопросы,
стало быть, я чист. Я указал также, что непозволительно вручать человеку
повестку в семь вечера с вызовом на три пополудни следующего дня. В какой-то
момент Вуд не выдержал и тоже начал употреблять непечатные слова. Ко времени
вторых слушаний палата представителей уже выдвинула против нас обвинение в
неуважении к Конгрессу, оно было подтверждено Большим жюри, и суд назначен на 13
июня 1947 года. Наши адвокаты уверяли, что суд первой инстанции скорее всего
отвергнет выдвинутые обвинения, а если и признает нас виновными, можно будет
апеллировать к Верховному суду. Я воспринимал происходящее спокойно, таковы
правила игры. Меня не должны осудить только за то, что я коммунист, но если
осудят - это будет вызов не только коммунизму, но и всем либералам, всем
трудовым людям.
3.Ядерный блеф.
19 сентября
1946 года в Нью-Йорк приехали профессор Фредерик Жолио-Кюри с женой Ирэн. Мы
хорошо потолковали. Поскольку они с Ирэн были членами Французской
коммунистической партии, профессор посчитал, что со мной можно говорить
откровенно. Вот как, примерно, протекала наша беседа. Фаст: Как вы думаете, у
России будет атомная бомба? Жолио-Кюри: А она у них уже есть. Фаст: Есть
атомная бомба? Жолио-Кюри: Конечно, даже две, и сейчас они способны производить
пять бомб в месяц, так что к концу сентября у них будет семь. А через полгода
уровень производства возрастет до сотни бомб в месяц. Фаст: Вы уверены?
Жолио-Кюри: Я ведь работал с русскими. Я видел бомбы. Какие еще доказательства
вам нужны? Фаст: А разве это не совершенно секретная информация? Вы делитесь
со мною тайнами, которые я вовсе не должен знать. Жолио-Кюри: Ну почему же? На
мой взгляд, как раз наоборот, вам стоит знать это. И всем стоит. Мы
склонялись к тому, что взрывать такую бомбу на страницах /коммунистической/
Дейли уоркер было бы ошибкой. Нужно какое-то другое издание. /Но в конце
концов мы решили/, что содержание моего разговора с Жолио-Кюри /будет
передано/ в отчете о приеме. А поскольку нашу газету власти своим бдительным
вниманием не оставляют, все быстро станет известно и в ЦРУ и в других местах. Я
не мог усомниться: он /Жолио-Кюри/ говорит правду. Да и зачем бы ему вводить
меня в заблуждение? Именно меня? Тогда уж следовало бы выбрать в собеседники
какого-нибудь известного репортера, знаменитого журналиста или собрать
пресс-конференцию. Жолио-Кюри - фигура мирового значения, один из крупнейших
ученых современности, к нему нельзя не прислушаться, хотя сам он как будто к
публичности не стремится.
Л.К.
Как
известно, Советский Союз осуществил первое атомное испытание только
через три года, и об этом президент Трумэн объявил сразу. Это значит,
что Сталин в 46 году блефовал, «информацию» слили по цепочке, врать
поручили авторитетному Жолио-Кюри, к операции привлекли и Фаста.
4.Америка
продолжает судить.
По мере того
как охота на ведьм приобретала все более широкие масштабы - рос страх. 31 марта
1947 года Большое жюри признало всех нас, членов Исполнительного бюро, виновными
не только в неуважении к Конгрессу, за что полагался год тюрьмы, но и в
заговорщической деятельности, а эта статья предполагала до пяти лет заключения.
Итого - шесть. За что шесть лет? В конце концов я - Говард Фаст. Мои книги
расходятся по всему миру миллионными тиражами. Таких, как я, в тюрьмы не
бросают. То есть, в других странах возможно, но не в Соединенных Штатах
Америки. Судебное заседание было назначено на 11 июня 1947 года в Вашингтоне.
Председательствовать должен был судья Александр Холтцофф. Это был оголтелый
антикоммунист, открыто заявивший, - если доводить его высказывания до
логического конца, - что всех коммунистов надо расстреливать без суда и
следствия. /Холтцофу дали отвод/. Вот в такой атмосфере нас и судили.
/Представители/ прессы, словно псы, почуявшие запах крови, выливали на нас ушаты
лжи. 13 июня процесс возобновился под председательством судьи Ричмонда Кича.
Это был довольно объективный человек. Шестнадцать членов нашего комитета
тогда еще нас было 16, это потом пятеро отколются, купив себе свободу,
итак, 16 человек сидели на своих местах в зале судебного заседания и наблюдали
за процессом отбора жюри присяжных. Все двенадцать мужчин и женщин оказались
белыми и все так или иначе работали на правительство Соединенных Штатов; иными
словами, это было жюри, подобранное обвинением. Напутствуя жюри присяжных, судья
Кич отмел обвинение в заговорщической деятельности. По другому пункту,
неуважение, он пояснил, что отказ отвечать на вопросы и предоставлять
документы, имеющие отношение к делу, должны рассматриваться как таковое.
Разумеется, присяжные пришли к единодушному решению: виновны. Самое большое, что
могли дать по этой статье, - год тюремного заключения. Учитывая, что светило
шесть, такой приговор казался избавлением. Дав подписку о невыезде, большинство
из нас в тот же вечер поездом оправились в Нью-Йорк. Через несколько
недель был оглашен приговор суда:
десятерым - три месяца тюрьмы, Барски - шесть.
Отбывать срок нам предстояло с конца весны 1950 года.
5.Бунт на
коленях по еврейскому вопросу.
Через
некоторое время я получил телеграмму от Фредерика Жолио-Кюри с приглашением
принять участие в крупной международной конференции в защиту мира, которая
должна была открыться в Париже 20 апреля /1949 года/. Судья Кич и Госдепартамент
уступили /и выдали/ паспорт на месяц. Еще до моего отъезда произошло событие,
о котором доныне никому не было известно.
Меня пригласили к Полу Новику и Хаиму
Шуллеру, двум крупным партийным функционерам, руководителям еврейской секции
компартии. Партия издавала газету на идиш - Freiheit - одно из целого ряда
левых изданий на иностранных языках. По мере того, как иностранные рабочие
старели и умирали, прекращали существование и их газеты, представлявшие в свое
время живую, яркую часть американской истории. Такую же судьбу разделила и
Freiheit, но тогда, в 1949 году, это было еще вполне энергичное издание с
небольшой, но устойчивой читательской аудиторией. Еврейская секция представляла
собой одно из иноязычных отделений партии, в Нью-Йорке самое крупное. Новик
входил в Национальный комитет компартии США и в качестве такового представлял ее
руководство. Шуллер был его заместителем. Мы были только втроем, и Новик заявил,
что выражает мнение Национального комитета, который, после продолжительной
дискуссии решил от имени Коммунистической партии США выдвинуть обвинение в
антисемитизме против Коммунистической партии Советского Союза. Совершенно
потрясенный, я лишь недоверчиво покачал головой. - Этого не может быть, -
пробормотал я. - Бред какой-то. - Не бред, - возразил Новик. - Неужели ты
думаешь, что мы можем выдвинуть подобное обвинение, не имея серьезных
доказательств? Они у нас есть. Мы ведь не говорим о нашей партии, мы говорим
только о Советах. - Но ведь это - центр движения. - Нет, - оборвал меня
Новик. - Центр - мы. Мы сами отвечаем за собственные действия. Если Советам не
хватает исторической проницательности, чтобы должным образом оценить последствия
своей политики, наш долг - критиковать их. - Ну а я-то здесь при чем? - слабо
выговорил я. - Ты едешь в Париж. Советы посылают туда большую делегацию.
Попроси людей из компартии Франции, которые будут ее опекать, устроить тебе
встречу с руководителем. Тебе предоставляются все полномочия, ты - представитель
Национального комитета нашей партии и в качестве такового сделаешь заявление в
том духе, как я сказал: мы обвиняем руководство Коммунистической партии
Советского Союза в вопиющих актах антсемитизма и отклонении от ленинских норм.
Ты должен осознать серьезность этих обвинений, как и их конфиденциальность. Если
это станет достоянием прессы, последствия могут оказаться самыми печальными.
Далее мои собеседники мотивировали свою позицию: фактическое прекращение
деятельности в Советском Союзе любых еврейских организаций, закрытие газет на
идиш, исчезновение некоторых крупных деятелей, евреев по национальности,
признаки - хотя достоверно и не подтвержденные - того, что некоторые военные -
евреи, люди с большими заслугами перед армией, арестованы и расстреляны.
Творятся ужасные вещи. Так передо мной, как и перед другими коммунистами, встал
тяжелейший вопрос: следует ли рассматривать такие явления - а доказательства их
существования представлялись пока весьма смутными - как органический порок всей
системы или это лишь печальное отклонение от нормы? Быть может, это чисто
советский опыт, его надо учитывать и пытаться исправить положение? Задним умом
всякий крепок. Я сказал Новику и Шуллеру, что приложу все усилия, чтобы
выполнить поручение.
Советскую делегацию на
конгрессе возглавлял Александр Фадеев. Я сказал, что нужно защищенное от
прослушивания помещение, и хорошо бы, чтобы Фадеев привел переводчика. С такого
рода просьбой я обращался впервые в жизни. На следующий день /французские
коммунисты проводили меня/ в небольшое подвальное помещение в Плейель,
которое, как меня заверили, не прослушивается. Я остался с Фадеевым и
переводчиком. Начал я с того, что мне поручено выдвинуть формальное обвинение
против Центрального комитета компартии Советского Союза. Прозвучало это сильно,
мне пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я действительно сказал эти
слова. Их перевели. Фадеев ненадолго задумался и кивком головы дал понять, что
готов выслушать меня. Я сразу взял быка за рога: - Наш Национальный комитет
обвиняет советское руководство в антисемитизме и нарушении основ
социалистической этики, что представляет собой серьезную угрозу мировому
коммунистическому движению. Я выпалил это одним духом и, только закончив, ощутил
некоторое волнение и даже страх. Я облек обвинительное послание в более или
менее приличную форму. Фадеев снова задумался, слегка прикрыл глаза, принялся
что-то мурлыкать под нос - раздражающая привычка - и сказал: - В Советском
Союзе нет антисемитизма. - И это все? - В Советском Союзе нет
антисемитизма. К Советскому Союзу я относился с огромным уважением. В моих,
как и тысяч других американцев, глазах это был бастион социализма. Я продолжил:
- Как же так? Весьма ответственные товарищи поручают мне выдвинуть против вашего
руководства серьезные обвинения особенно серьезные на фоне истребления шести
миллионов евреев в нацистских концлагерях, - а вы просто заявляете, что в СССР
нет антисемитизма? Что же, и мне прикажете вернуться домой и просто сказать: в
СССР нет антисемитизма? Но ведь у нас есть доказательства обратного. - Я
перечислил их. - Быть может, и не все из этого правда, но почему вы
отказываетесь говорить об этом? - Потому что в Советском Союзе нет
антисемитизма. - На сей раз в голосе Фадеева прозвучало легкое раздражение. Я
понял, что дальнейший разговор лишен смысла, Фадеев с места не сдвинется. Я
вернусь домой и предстану
перед Полом Новиком и Хаимом Шуллером, двумя хорошими
людьми. Фадеев, со своей стороны, вернется домой и предстанет - перед кем? Не
знаю. Семь лет спустя, после доклада Хрущева на ХХ съезде партии о сталинских
преступлениях, Фадеев взял пистолет и вышиб себе мозги. Но сейчас, в апреле 1949
года, я получил ответ, который на самом деле никаким ответом не был, и,
возвращаясь с этого свидания, чувствовал, что меня охватывают все большие
сомнения. Быть может, Новик с Шуллером заблуждаются? Россия более чем двадцатью
миллионами жизней своих сограждан заплатила за победу над нацизмом. Сказал ли я
в Париже правду или меня просто обвели вокруг пальца?
Л.К.
Скорее
всего Фадеев, который мог действовать неординарно, не настучал в Москве
на Фаста. И Фаст до самой смерти Сталина и некоторое время после
того оставался любимчиком Москвы. В его книге немало анахронизмов (в те
годы СССР признавал совокупные потери во время войны в размере 8
миллионов человек, уже на рубеже 60-х заговорили о 20 миллионах). У
Фаста избирательная память. К весне 49 года был убит Михоэлс,
состоялись его пышные госпохороны, раскрутилась совсем не потаенная
компания против «космополитов», закрыты еврейские театры, арестованы члены
Еврейского антифашистского комитета видные литераторы, ученые, артисты. В
Еврейской автономии «по просьбе трудящихся» запрещено преподавание идиша
и т.д. Рассказывают, что американский офицер из комендатуры окупационных
войск в Германии принудил жителей подведомственного города посмотреть
на рвы соседнего концлагеря. Жители блеяли, что они ничего не знали.
Офицер сказал: «Вы находились за забором и ничего не хотели
знать. А мы за океаном и знали все». Фаст правда, за океаном не
знал твердо ничего, и до сих пор сомневается: то ли он говорил
Фадееву правду, то ли два старых еврея обманывали его.
6.Восемьдесят
дней в тюрьме.
После
кошмарной средневековой тесноты вашингтонской тюрьмы /9 первых дней
заключения прошли в девятиметровой камере на двоих со всеми удобствами/
Милл Пойнт /вторая тюрьма/ казался чистым избавлением. Конечно, это тоже тюрьма,
но тюрьма, позволяющая сохранить хоть крупицы человеческого достоинства. Стен
здесь не было - разве что непроходимая стена леса вокруг, - не было и камер,
решеток, карцеров, колючей проволоки, через которую пропущено электричество,
двери не запирались, только на кухню. Вот как складывался мой день: в семь
подъем, умывание, бритье, завтрак. Потом - работа /в бригаде каменщиков/.
Помещение уже убрано, койки заправлены. Затем обед и снова работа. В четыре
работа заканчивалась, и до ужина наступало свободное время. А после - софтбол,
письма, сигареты, безделье - словом, все что угодно. Я, например, занимался с
неграмотными. /Но начальник тюрьмы/ получил указание из генеральной
прокуратуры: коммунистам запрещено заниматься преподаванием. Не могу сказать,
что в тюрьме я испытывал такие уж лишения. Мы остро критиковали Советский Союз
за отказ выпускать своих граждан за границу, но ведь и в Америке в мои времена
ни одному левому не выдавали паспорта. Мой отобрали по возвращении из Парижа и
отказывали в получении на протяжении последующих десяти лет. / А в тюрьме/
срок мне за примерное поведение немного скостили, вышел я раньше, чем
предполагалось.
7.Террор
по-американски и премия мира.
Террор не утихал - дело
Розенбергов только подогрело антикоммунистическую истерию. Комитет по
антиамериканской деятельности трудился не покладая рук. Рукопись /«Спартака»/
представлялась последовательно одному издателю за другим. Прогресса никакого не
наблюдалось. Следующим в моем списке значился Альфред Кнопф . И вот отважный
мистер Кнопф пишет, что не желает марать руки о страницы, написанные таким
типом, как Говард Фаст. Вся эта история многому меня научила. Отныне я никогда
не буду осуждать немцев за то, что они не выступили против Гитлера. В конце
концов, у него были расстрельные команды и концлагеря. А здесь всего лишь
угрозы Эдгара Гувера. /В итоге Фасту пришлось самому издать «Спартака» -
с большим успехом/. Надо признать, что право на публикацию книг в Америке
отнять так и не удалось, даже Эдгар Гувер со своими боевиками не смог отменить
Первой поправки к Конституции США.
Международный
комитет во главе с Арагоном присудил мне Сталинскую премию мира, состоявшую из
красивого диплома в кожаном переплете, золотой медали и чека на 25000 долларов,
что весьма пригодилось, ибо жилось нам в ту пору трудно, ... /А если учесть/
сотни тысяч экземпляров, которыми выходили мои книги в СССР, не принося автору
ни копейки, наверное, их можно было принять без угрызений совести.
Л.К.
В 52
и/или 53 году не помню в каком порядке Сталинские премии мира
были присуждены двум полезным
евреям Эренбургу и Фасту. В предверии
очередного «окончательного решения» Сталин, повидимому, колебался и
подавал вовне противоречивые сигналы. В данном случае следует обратить
внимание на наивную хитрость Фаста, которая может сработать в
американской аудитории : видите ли Сталинскую премию ему дал некий
комитет с Арагоном во главе. С другой стороны, я склонен верить Фасту,
а не Грибачеву по поводу гонораров, которые якобы вымогал писатель у
страны победившего социализма.
8.Дело врачей
отравителей.
13 января
1953 года в газетах появилось сообщение о девяти врачах, покушавшихся на жизнь
советских руководителей. Сообщалось, что в результате заведомо неправильного
лечения погибли Жданов в 1948
и Щербаков - в 1945 году. Замышлялось также убийство Сталина. На следующий день
после публикации мне позвонил Якоб Ауслендер. В свое время нас вместе судили. -
Это ложь, - твердо заявил он. - Гнусная выдумка. А вам известно, что все они
евреи и что их обвиняют в участии в сионистском заговоре? - Слышал. - И
вы верите в это? - Не знаю, что и думать. Звучит дико - девять врачей, все
евреи, произошло все в сороковые годы, а разоблачили их только сейчас. Абсурд
какой-то. - Все это чушь, - уверенно повторил Ауслендер. - Врачи на такое не
способны. Я вспомнил свою парижскую миссию. Теперь передал содержание
своего разговора с Фадеевым Ауслендеру. - О, Господи, почему же вы не
написали об этом? - Потому что партия попросила меня этого не делать. Я
коммунист и не могу писать без согласия партии. - Дисциплина! Ведь
происходит нечто чудовщное, даже подумать страшно. /Но с другой стороны
я/ не с чужих слов знаю, какие помои льют дома на нашу партию, и знаю, что все
это сплошная ложь и антисоветская пропаганда. Я знаю, мы - честные и неподкупные
люди, только руководят нами твердолобые дураки. А мы, увы, послушно следуем за
ними. - Все, что говорят русские, - продолжал Ауслендер, - мы всегда принимали
за истину в последней инстанции. А это не так. И быть может, то, что здесь
говорят о Советах их ненавистники, - правда. - С этим я согласиться не
могу. - Вся эта чертова партия - сплошное мошенничество; мы сами вбили себе
это в голову и приняли за правду. И что получается? Сегодня они просто повторяют
Гитлера.
Через два месяца умер Иосиф Сталин.
Земля к земле, прах к праху и, слава богу, бессмертных нет. С тяжелым сердцем я
отправился к Шуллеру и Новику, и пересказал им свой разговор с Ауслендером. -
Ну, и что хорошего, если ты на весь мир раструбишь, что в Советском Союзе
процветает антисемитизм? - осведомился Новик. - Но ведь это правда, а люди
должны знать правду. Антисемитизм - дрожжи ненависти и убийства. А социализм
тут вообще ни при чем. - Но Россия - социалистическая страна. Это тоже важно.
- Что же, в таком случае мы имеем социалистический антисемитизм. /Нельзя все
объяснять/ полностью безграничной, невообразимой жестокостью Сталина, хотя бы
частично вина ложится и на организацию, которая выдала ему мандат. Если бы в
послевоенной Америке нашелся хоть один институт, у которого достало бы мужества
и мудрости противостоять террору Гувера и Маккарти, компартия, вероятно, была бы
другой.
Л.К.
И снова: Фаст «ставит
на одну доску» антикоммунистическую пропаганду в Америке и «дело
врачей» со всем, что ему предшествовало и что из него следовало. А,
кроме того, в том, что компартия США оказалась косной, по его мнению
опять виноваты американские властные институты.
9.Секретный
доклад Хрущева.
Много лет
назад Фадеев отверг всяческие обвинения в антисемитизме. Но теперь-то нам точно
известно, что развернулся настоящий крестовый поход против евреев - не в
Германии, в Советском Союзе! А потом Хрущев прочитал на ХХ съезде свой закрытый
доклад. Госдепартамент передал доклад в Нью-Йорк таймс. Это было в начале июня
1956 года. Оттуда связались с Джо Гейтсом /редактором коммунистической «Дейли
уоркер»/. - Слушайте, тут у нас один документ имеется, на наш, как и Госдепа,
взгляд, все чисто, никакой липы, и перевод точный. Если хотите, подошлем -
можете печатать в тот же день, что и мы. Дейли уоркер оказалась тогда
единственной коммунистической газетой в мире, которая опубликовала секретный
доклад ХХ съезду КПСС. Эта газета была важной частью моей жизни. И вот 13 июня
1956 года, через два дня после публикации хрущевского доклада, я написал свой
последний комментарий в номер. В октябре того же 1956 года произошла
странная история. Я получил письмо из советского посольства, в котором
говорилось, что Советский Союз намеревается перевести мне 600.000 долларов в
счет авторского гонорара. Может, русские не знают, что я вышел из партии? Или
это грандиозная подачка, чтобы заставить меня вернуться? 600000 долларов ни за
что, ни про что! В письме также сообщалось, что в Москве только что тиражом в
300000 экземпляров отпечатан Спартак (дошло ли оно до книжных магазинов, я так
и не узнал). Я написал в посольство, что вышел из компартии и в дальнейшем
намереваюсь писать о Советском Союзе в соответствии с собственными взглядами.
Гонорар так и не поступил. Впрочем, я все равно вернул бы деньги. Их обещали
прислать в феврале 1957 года, но еще до этого мой выход из компартии стал
достоянием гласности. С появлением в Нью-Йорк таймс (1 февраля 1957 года)
заявления о выходе из компартии, кончилась какая-то часть моей жизни; и вместе
со злобными нападками со стороны руководителей компартии США - только кем они в
это время руководили? - потоки клеветы и ненависти обрушились на меня и из
Советского Союза, в основном со страниц Литературной газеты. Те самые критики,
которые вчера еще превозносили меня как крупнейшего писателя западного мира,
сегодня смешивали с грязью. Это было вполне сопоставимо с деятельностью их
западных коллег в минувшие 12 лет. С этого времени книги Говарда Фаста в СССР
больше не публиковались.
Л.К.
Все
проходит ... И, казалось, вечный Говард Фаст весной 2003 года скончался
на 89-м году жизни ...
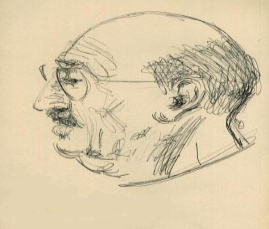 Книжники
народа Книги - любители русской словесности - перебрались на историческую
родину и добрый десяток лет были лишены привычных московских и
ленинградских журналов и возможности составлять домашние антологии. Но
разразилось чудо Интернета. Нам теперь доступны основные литературные
журналы русской метрополии, мы снова можем составлять сборники
самого-самого, хотя и в цифровом виде. Правда, читать с экрана лежа на
диване трудновато, нельзя страничку загнуть и все такое. Зато нет
проблем с лимитированной подпиской, журналы в русском журнальном сайте (russ.ru)
в ассортименте, копируй и читай не хочу.
Книжники
народа Книги - любители русской словесности - перебрались на историческую
родину и добрый десяток лет были лишены привычных московских и
ленинградских журналов и возможности составлять домашние антологии. Но
разразилось чудо Интернета. Нам теперь доступны основные литературные
журналы русской метрополии, мы снова можем составлять сборники
самого-самого, хотя и в цифровом виде. Правда, читать с экрана лежа на
диване трудновато, нельзя страничку загнуть и все такое. Зато нет
проблем с лимитированной подпиской, журналы в русском журнальном сайте (russ.ru)
в ассортименте, копируй и читай не хочу.